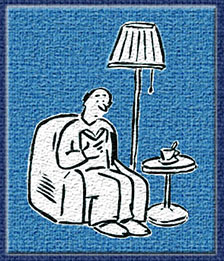Власий Михайлович Дорошевич ( 5 [17] января 1865 — 22 февраля 1922 ) — русский журналист, театральный критик и публицист, один из известных фельетонистов конца XIX - начала XX века.


Сахалин
С одесского вокзала в тюрьму несколько раз в год двигались, гремя кандалами, угрюмые процессии приговорённых к каторжным работам на Сахалине. Одесса была для них перевалочным пунктом. Здесь их сажали на пароход и далёким кружным путём через Средиземное море, Индийский и Тихий океаны везли на «каторжный остров». Пароход „Ярославль“ — огромная плавучая тюрьма, которая ежегодно доставляла на Сахалин 1600 каторжников. Одесса привыкла к процессиям каторжан и не обращала на них внимания. Это был «мир отверженных», и интересоваться им не полагалось. В местных газетах, широко рекламировавших приезд очередной оперной дивы, нельзя найти информацию о каторжанах.
Конечно, он не мог пройти мимо этой «запретной» стороны жизни города, от которой веяло человеческим страданием.
1 января 1897 года на первой полосе «Одесского листка» появилось объявление:
«Желая познакомить читателей с одним из отдаленных пунктов земного шара, всегда возбуждавшим особенный интерес русской публики, но мало известным, редакция решила командировать одного из своих талантливейших сотрудников в путешествие на остров Сахалин. Эту трудную миссию принял на себя
В. М. ДОРОШЕВИЧ, который в марте 1897 года отправится
НА ОСТРОВ САХАЛИН
с целью описать быт, нравы и типы этого „мира отверженных“. Талант нашего почтенного сотрудника, его наблюдательность, умение тонко подмечать и яркими красками описывать события и рисовать типы — всё это служит гарантией в том, что описания быта, нравов и типов острова Сахалина будут полны живого и захватывающего интереса. Своё путешествие г. Дорошевич совершит с пароходом Добровольного флота „Ярославль“, на котором перевозятся приговорённые к каторжным работам на остров Сахалин. Таким образом, читающая публика познакомится с бытом „сахалинцев“ с самого момента их разлуки с родиной вплоть до жизни на поселеньи. Обратный путь г. Дорошевич предпримет чрез Америку, совершив таким образом
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, первое, предпринимаемое русским журналистом по поручению редакции».
Перед поездкой на Сахалин Влас обратился в Главное тюремное управление за разрешением осмотреть каторжные тюрьмы на Сахалине. «Главное тюремное управление отвечало отказом <…> по всем пунктам» со ссылкой, что пребывание на острове «зависит от усмотрения местных властей» , а «посещение тюрем разрешается только с научною или благотворительною целью». Одновременно, если бы он «вздумал поехать на том пароходе, на котором перевозят каторжников» , его предупреждали, что «какое бы то ни было общение с арестантами строжайше воспрещено и ни в каком случае допущено не будет».
Дорошевич не знал, что ещё до его обращения в Главное тюремное управление давний враг, одесский градоначальник П. А. Зеленый, опираясь на информацию в «Одесском листке» о предстоящей сахалинской поездке «неприятного газетчика» , обратился к главе ведомства А. П. Саломону с конфиденциальным письмом, в котором посчитал необходимым подчеркнуть, что «этот журналист выставляет общественных деятелей в карикатурном виде» и поэтому «едва ли удобно было бы допускать его к свободному и бесконтрольному пребыванию на Сахалине» . 24 декабря Саломон сообщил Зеленому, что, с одной стороны, «препятствовать корреспонденту газеты посетить о. Сахалин или стеснять его в выборе парохода едва ли было бы удобно, так как подобное противодействие могло бы дать повод газетам думать, что правительство имеет какие-то причины скрывать истинное положение дел на о. Сахалине» , а с другой — «судьба осужденного не должна подлежать оглашению» и поэтому «доступ в места заключения запрещён для лиц, необязанных по своему служебному положению или не призванных по своим нравственным качествам входить в общение с заключенными» . Тогда же начальник Главного тюремного управления потребовал от комитета Добровольного флота, чтобы было дано распоряжение офицерам, которые занимались ссыльнокаторжными на судах, не показывать «посторонним лицам статейных списков перевозимых преступников и не допускать никакого общения между ними и пассажирами».
И тем не менее уже на пароходе «Ярославль» Дорошевич предпринимает всё возможное, чтобы сблизиться с арестантами. Отправляемые из разных портов в редакцию «Одесского листка» заметки «На Сахалин» в подробностях (режим, питание, взаимоотношения между каторжанами) рисуют их быт во время плавания. Здесь преобладает тот метод скрупулезного, не оставляющего в стороне никаких деталей «вживания в каторгу» , который станет для него главным на острове. Он узнаёт об арестантских обычаях, внимательно вслушивается в статейные списки, когда их зачитывают вслух, и даже проникает в пароходные тайны — становится свидетелем похорон умершего кавказца, наказания линьками и подготовки побега.
Настоящие испытания ждали его во Владивостоке, куда пароход прибыл в первых числах апреля. Вице-губернатор Приморской области Я. П. Омельянович-Павленко, к которому он пришёл за официальным разрешением, набивая во время разговора папиросные гильзы, назидательно заметил, что ежели пускать на остров «всех корреспондентов» , то «из каторги гулянье какое-то сделается» . Оставалась единственная надежда — на обращение к самому генерал-губернатору Приамурского края. Но отправиться на приём к нему в Хабаровск не было возможности: из-за весеннего разлива рек нарушилось железнодорожное сообщение.
Через неделю «Ярославль» уходил из Владивостока на Сахалин. Дорошевич буквально метался по городу, вёл разговоры с местными чиновниками и бывшими сахалинскими служащими, заходил в редакцию газеты «Владивосток». Владивостокские чиновники, из тех, что откровенничали с журналистом, были настроены пессимистично: «Нет, батенька, на Сахалин вас вряд ли пустят! <…> Тут, батюшка, Чехова пустили, так потом каялись! Пошли из Петербурга запросы. „Как у вас? Что? Почему? Отчего такие порядки?“ Потом себя кляли, кляли, что показали!»
Итак, 16 апреля Дорошевич прибыл на Сахалин в Корсаковск. Сахалинские чиновники, непосредственно ведавшие тюрьмами и поселениями, не имея поначалу конкретных указаний высшего начальства, что называется, распахнули перед журналистом все двери. Так в Корсаковске Дорошевич начал посещать тюрьмы, встречаться и беседовать с каторжанами, изучать в подробностях сахалинский быт. Ему «нужно было видеть Сахалин таким, каков он есть. А не прикрашенным для „знатного посетителя“». Нужна «была правда жестокая, но настоящая правда» . Поэтому он сразу же взял за правило «молчать, не вмешиваться, не мешать совершаться всему, что совершается обычно, каждый день, когда не боятся нескромного постороннего взгляда» . Поэтому он с утра пил со смотрителем Меркушевым водку «лафитными стаканчиками», выслушивая его «отвратительные откровенности и излияния», и шёл с ним на «раскомандировку» и «наряд», присутствовал при телесных наказаниях. Потом «ездил на работы или, в той же тюрьме, беседовал с арестантами, с подследственными, в кандальной, в карцерах».
Однако вскоре пришёл ответ на телеграмму с просьбой разрешить пребывание на острове и осмотр тюрем, адресованную военному губернатору Сахалина генералу Мерказину. Ответ был как удар грома: «Разрешить не могу. Разрешение зависит от приамурского генерал-губернатора» . И сразу всё изменилось: лебезившие перед журналистом чиновники, смотрители, дружески пившие с ним водку и откровенничавшие, напугавшись «самовольства», стали неприступны, доступ в тюрьму был закрыт, он даже не имел права ночевать на берегу, а только на пароходе.
И всё-таки, оказавшись вновь на палубе «Ярославля», Дорошевич был доволен. Ещё бы! Как бы там дальше ни сложилось, а ему удалось осмотреть в Корсаковске тюрьму, лазарет, кладбище, познакомиться и поговорить с арестантами. И даже если бы запретили дальнейшее знакомство с каторгой, у него уже был какой-то материал, он «узнал много нового, интересного, важного», о чем можно и должно написать. В общем, съездил недаром. Хотя и знал, что «настоящая каторга там — в Александровске. Там и самые тяжкие преступники, и рудники» .
Каждый день он ждал ответа от генерал-губернатора. И ответ пришёл замечательный: «Охотно разрешаю пребывание на острове, осмотр тюремных и прочих учреждений. Телеграфирую генералу Мерказину о полном содействии. Генерал-лейтенант Духовской». Никогда — ни до, ни после ни в своей «журналистской деятельности, ни в личной жизни» — он «не чувствовал такого счастья, такой радости».
Итак, формальности были улажены, Сахалин открывался, чиновники получили указание от губернатора острова оказывать «полное содействие господину Дорошевичу». Но он не обольщался, ибо знал, что главная трудность — «добыть настоящую правду» — впереди.
«От горя, от страдания, от мерзости натуры, вольно, невольно — на Сахалине все изолгалось». Поэтому нельзя верить ни каторге, у которой «есть тысячи расчётов обмануть вас», ни служащим, у которых «есть расчёт скрыть многое от вас». А, кроме того, презирая каторгу, они «не интересуются, не знают её внутренней жизни».
Уже первые, полученные в Корсаковске впечатления приводят Дорошевича к мысли, что на острове полностью сохранилось крепостное право: «Тот же подневольный труд, те же люди, не имеющие никаких прав, унизительные наказания, те же дореформенные порядки, бесконечное „бумажное“ производство всяких дел, тот же взгляд на человека как на „живой инвентарь“, то же распоряжение человеком „по усмотрению“, „сожительства“, заключаемые как браки при крепостном праве, не по желанию, не по влечению, а по приказу, взгляд многих на каторжного как на крепостного…» Наблюдение, совпадающее с чеховским: «Это — не каторга, а крепостничество». Сахалинские служащие, эти, «по большей части неудачники, люди, потерпевшие крушение на всех поприщах, за которые они хватались, ни к чему не оказавшиеся пригодными в России <…> приехали сюда, наслушавшись рассказов, что на окраинах не житье, а масленица, приехали, мечтая о колоссальных „припеках“, которые умеют делать на арестантском хлебе смотрительские фавориты — тюремные хлебопеки, об огромных „экономиях“, делаемых при поставках материалов и т. п.». Ну и, помимо того, «всякому лестно», конечно, пожить барином при крепостном праве, имея слуг и рабочих, которых «в случае неудовольствия», можно приказать «выдрать или посадить в тюрьму». Хотя в общем на острове «их ждало разочарование», «припеки» оказались «не в таких размерах, как грезилось», чему виной в немалой степени были контрольные чиновники, сующие во всё свой нос.
Стремление постигнуть самые разные стороны сахалинской жизни ведёт журналиста в каторжный лазарет и на кладбище, в мастерские и дома поселенцев, заставляет посещать тюрьму даже ночью. Он заходит в жилища ведущих полудикую жизнь аборигенов-гиляков и спускается в забой Александровского рудника. С самого начала своего «познания Сахалина» Дорошевич внимательно вглядывается в кажущуюся поначалу однообразной «толпу каторжан», постепенно начиная «различать в этой серой массе бесконечно разнообразные типы».
Целыми днями просиживает он в самой страшной тюрьме — Александровской кандальной, куда и смотрители не заглядывают без охраны. «Было иногда страшно», особенно при встрече с «огромного роста и неимоверной силы тачечником», бешено стучавшим тачкой об землю. Или когда на него в кандальной тюрьме кинулся какой-то китаец, обращавшийся ко всем с непонятными просьбами. А в одной из тюрем пристал сумасшедший, требовавший «манифестов».
Не сразу далось «вхождение в каторгу» . И всё-таки сумев завоевать доверие у таких «авторитетов» как Полуляхов, «знаменитый убийца семьи Арцимовичей в Луганске», и Пазульский, «когда-то на юге атаман трёх разбойничьих шаек», вызвать на откровенность бывшего интеллигента-москвича «бродягу» Сокольского, он ведёт длинные беседы с ними и другими каторжанами, в том числе с опаснейшими, прикованными к тачке преступниками, дотошно выясняет не только все детали тюремного быта, но и подробности «историй», приведших их на Сахалин. При этом никакой сентиментальности, «жалости», презираемой каторгой. «Главным помощником» было уважительное, «понимающее сострадание», в котором нуждались каторжане. Но разговоры шли на равных. И каторга зауважала журналиста, который сумел добиться своего, «против всех пошёл». В свою очередь, Дорошевич стремился не нанести ущерб авторитетному положению в каторжной среде того же Пазульского, и хотя тот совсем не говорил по-английски, журналист сделал вид, что нечто понял из произносившейся им белиберды и даже «поддержал разговор» в присутствии с любопытством наблюдавших за этой сценой каторжан. Не разделяя позицию презираемых каторгой «тюремных филантропов», душу свою спасающих сентиментальным сочувствием к «бедненьким арестантам» и раздающих им нравоучительные брошюрки, он совершает поступки, к которым каторга относится с одобрением. Попавшему в безвыходное положение поселенцу купил корову. Помог обессилевшему и вынужденному продать ростовщику последнее с себя каторжанину, выкупив его халат, куртку и паёк хлеба.
Правда, каторга «сдалась не сразу», «пробовала» журналиста, были и «попытки запугать». Пустили слух, что под пиджаком у него «железная рубашка», и оттого он так смело заходит в камеры к самым страшным преступникам. Окруженный каторжанами, он чувствовал как «Фомы неверные» ощупывают его спину. Один каторжник даже одобрительно заметил: «Ты сам, барин, мы видим, из „Иванов“». Это была «большая похвала», поскольку «Иван» — высшее лицо в каторжной иерархии. И каторга открылась ему. Десятки услышанных исповедей стали основой большей части сахалинских очерков. В них обнажились не только конкретные судьбы, но и тщательно скрывавшиеся тёмные стороны сахалинской жизни. Благодаря помощи каторжан Дорошевичу удалось установить каналы тайной торговли спиртным, которую вёл один из чиновников. Он узнал и подробности жуткого «Онорского дела». Когда в абсолютно бесчеловечных условиях, созданных бывшим «разгильдеевцем» старшим надзирателем Хановым, прорубалась оказавшаяся совершенно бесполезной просека через южный Сахалин, погибло множество каторжан. «Люди бросались под падавшие срубленные деревья, чтобы получить увечье, люди отрубали себе кисть руки, — на Сахалине и сейчас много этих „онорцев“ с отрубленной кистью левой руки, — чтоб только их, как неспособных к работе, отправили назад, в тюрьму. Люди очертя голову бежали в тайгу на голодную смерть». А там нередко становились жертвами людоедства своих же товарищей по каторге. Последнюю ступень человеческого падения фиксирует в очерке «Людоеды» признание одного из тех, «которые в бегах убивали и ели»: «Всё одно птицы склюют. А человеку не помирать же!»
Заглядывая в самые тёмные стороны человеческой психики, на её «дно», порой пускай невольно, но соглашаясь отчасти с ломброзианской теорией о врождённой тяге к преступлению, Дорошевич прежде всего предпочитает указывать на социальные корни преступности. В определенной степени и людоедство было порождено свирепыми «хановскими порядками». Несколькими годами позже, в судебных очерках, вступаясь за сломанные человеческие судьбы, он с особым упорством будет доискиваться социальных мотивов совершенного преступления. И как-то признается: «Я люблю разбирать судебные процессы с бытовой стороны и считаю такое занятие для общества полезным. Разобрать дело с общественной и бытовой стороны — это чаще всего снять с обвиняемого часть его вины и возложить её на быт, на общество. Это справедливость».
Блуждая по кругам «каторжного ада», Дорошевич, естественно, проявил особое внимание к уголовным знаменитостям того времени, таким, как убийцы Полуляхов и Викторов, бандит Пазульский, легендарная воровка Софья Блювпггейн (Сонька Золотая Ручка), баронесса Геймбрук, бывший офицер Карл Ландсберг. Посвященные им очерки дали повод для утверждений, что, дескать, Дорошевич поехал на Сахалин за «зарисовкой сенсационных уголовных случаев, таинственных „героев“ нашумевших процессов, авантюрных историй…», что его «главным образом интересовали герои шумных сенсационных процессов». Соответственно в его книге «много места уделено описаниям похождений известной в своё время аферистки Соньки Золотой Ручки, подробно рассказывается о преступлениях высокопоставленных в прошлом лиц — баронессы-поджигательницы и гвардейского офицера-убийцы, с которыми встретился автор на Сахалине».
Исповеди знаменитых преступников дополнены их выразительными фотографиями. Вместе с тем, помимо изображений, под которыми указаны конкретное имя и фамилия, в книге Дорошевича большая часть фотоснимков (которые он сделал сам, а частично раздобыл у местных чиновников) снабжена подписью «Арестантский тип».
По большей части уголовные знаменитости лишены в изображении Дорошевича ореола необычности. «Всероссийски, почти европейски знаменитая» «Золотая Ручка», Софья Блювштейн, предстает «простой мещаночкой, мелкой лавочницей». «Рокамболя в юбке больше не было. Передо мной рыдала старушка-мать о своих несчастных детях». Нет ни слова о её легендарных преступлениях, зато с болью, как о страшном надругательстве над женщиной, рассказано о том, как её наказывали розгами, как ради наживы местного фотографа снимают «сцену закования» «Золотой Ручки». И бывший «Отелло-палач» лишён какого бы то ни было демонического ореола. Теперь это старательный смотритель маяка, правая рука начальника округа, «добрый, славный муж, удивительно кроткий, находящийся даже немного под башмаком у своей энергичной жены». С явным сочувствием обрисована сахалинская судьба пытающейся выжить собственным трудом О. В. Геймбрук, которую третируют и жены служащих, и каторжане только за то, что она баронесса. К Александру же Тальме, действительно безвинно попавшему на каторгу и оставшемуся в ней отзывчивым на чужое горе человеком, Дорошевич проникся настоящей симпатией.
Разворачивая перед читателем картину устройства каторги, её обычаев (тюрьма, распределение на работы, телесные наказания, именуемые «раскомандировкой», мастерские, лазарет, рудники, каторжное кладбище и т. д.), Дорошевич более всего стремится проникнуть в её внутреннюю, скрытую жизнь. В этом, наряду с постижением личности каторжанина, суть его долгих бесед с убийцей Полуляховым, бродягой Сокольским, ростовщиком Василием Концовым, сектантом Галактионовым, «поэтом» Паклиным, одесским жуликом Шапошниковым, «специалистом по кассам» Павлопуло. Постепенно вырисовывается перед ним страшная карикатура на государство, породившее каторгу, — эта каторжная иерархия, состоящая из майданщиков, «Иванов», «храпов», «жиганов», «хамов» и «шпанки». Ростовщик Концов, обирающий до нитки своих соседей по нарам, оказывается в одном ряду с фигурой официальной — управляющим Дуйскими рудниками Маевым, которому буквально в крепостное владение отдана местная тюрьма. Вся система социальных отношений на каторге в циничной форме дублирует государственные порядки.
«Если я увижу каторгу, — я увижу её такою, какова она есть, а не такою, какою её угодно будет показать мне гг. служащим» , — эти напоминающие клятву слова были произнесены в самом начале пути, когда ещё не было известно, удастся ли побывать на Сахалине. И вот сбылось: за три с половиной месяца остров изъезжен вдоль и поперёк, изучены все ступени каторги от Александровской кандальной тюрьмы до каменноугольных рудников в Дуэ и богадельни в Дербинском, состоялись встречи с сотнями людей — от высшего начальства каторги до последнего нищего.
Дорошевич не написал «резюмирующего» очерка. В этом не было нужды, поскольку широкая и богатая подробностями картина сахалинского каторжного быта, воссозданная в его очерках, говорила сама за себя. Впрочем, есть в них и вполне определенные итоговые высказывания: «Если исправление и возрождение немыслимы без раскаяния, то Сахалин не исполняет, не может исполнять своего назначения. Всё, что делается кругом, так страшно, отвратительно и гнусно, что у преступника является только жалость к самому себе, убеждение в том, что он наказан свыше меры, и, в сравнении с наказанием, преступление его кажется ему маленьким и ничтожным».
И в позднейших выступлениях, так или иначе связанных с темой каторги, он буквально обвиняет: «Какого хорошего результата можно ждать от того, что вы посадите человека в помойную яму? А Сахалин — это помойная яма, где люди, совсем живые, и люди, „ещё живые“, свалены в одну кучу, среди людей разлагающихся и разложившихся <…> Сахалин построен на огромной лжи: — Возрождать преступника».
Сразу же обратила внимание на очерки Дорошевича цензура. 24 июня 1897 года «Одесский листок» сообщил, что «в конце июля с одним из пароходов Добровольного флота <…> будет прислана целая серия новых очерков В. М. Дорошевича» , которые «являются наиболее интересными, так как они будут всецело посвящены Сахалину и его невольным обитателям — каторжанам» . А через месяц издатель оповестил подписчиков, что «по распоряжению г. министра внутренних дел издание газеты приостановлено на два месяца» . К «Одесскому листку» применили 154-ю, одну из самых строгих и, несомненно, политических статей цензурного устава, дающую право министру внутренних дел приостанавливать издания, подлежащие предварительной цензуре на срок не свыше восьми месяцев в случае их «вредного направления». Формальным основанием для приостановки послужила жалоба члена Одесской судебной палаты М. В. Шимановского, обвинившего газету в клевете. Но факт организации Шимановским в своём доме притона подтвердился.
Газета не выходила всего около месяца вместо объявленных двух. В первом же номере, вышедшем после перерыва 22 августа, был помещён в качестве «пробного шара» очерк «Золотая Ручка» с подзаголовком «Из моих сахалинских впечатлений». А через день началась регулярная публикация очерков под общим заглавием «Сахалин». Они шли почти еженедельно до конца года. В 1898 году с тринадцатого номера пошёл цикл «Настоящая каторга» — об Александровской кандальной тюрьме. В это время и подтвердилось «неравнодушие» одесских властей к сахалинским очеркам Дорошевича. Чиновник по особым поручениям при градоначальнике, несомненно с ведома самого Зеленого, сообщал в Главное управление по делам печати, что «описание жизни на острове Сахалине <…> оскорбляет нравственное чувство читателя» . 1 февраля 1898 года начальник управления Соловьев пометил на этом донесении: «Обратить внимание цензора на распущенность „Одесского листка“». А 4 февраля он сам обратился по поводу сахалинских очерков Дорошевича во временное присутствие по внутренней цензуре в Одессе с просьбой «поставить на вид цензору <…> неуместность подобных фельетонов» . Но эти меры, как видно, не возымели действия. И 7 марта газета опять была приостановлена по статье 154-й на месяц. И снова официальным основанием послужил факт незначительный — заметка о драке на еврейской свадьбе.
Вероятно, эти репрессии сказались на решимости издателя «Одесского листка» Навроцкого. Сахалинские очерки стали появляться совсем редко. В 1899 году с января до мая, когда прекратилось сотрудничество Дорошевича в «Одесском листке», в газете не был опубликован ни один сахалинский очерк.
Весной 1899 года Дорошевич перешёл в новую петербургскую газету «Россия», издание, даже среди либеральной периодики отличавшееся критическим тоном. Сахалинские очерки пришлись тут как нельзя кстати. Активная их публикация шла с июля 1899 по апрель 1900 года, последний очерк был напечатан в феврале 1901 года. Печатая в основном новые очерки, Дорошевич в «России» повторял, нередко в переработанном виде, и некоторые одесские публикации.
После закрытия «России» в январе 1902 года сахалинские очерки с марта по сентябрь печатаются в московской газете «Русское слово», издававшейся И. Д. Сытиным.
Дорошевич был сильно подавлен и растерян после закрытия «России» и высылки Амфитеатрова. Тогда же, в январе 1902 года, он «собирался за границу, очень нервничал, очень тревожился». И вот в этом состоянии предложил давно и хорошо знакомому издателю купить у него все его сочинения. Договорились, по словам Сытина, о продаже за десять тысяч рублей сахалинских очерков. Сотрудник же сытинского издательства, опытный редактор Николай Васильевич Тулупов, которому были переданы два чемодана с газетными вырезками, утверждает в своих неопубликованных воспоминаниях, что на самом деле гонорар составил шесть тысяч рублей. Он пишет, что Сытин попросил его взять «это добро» и посмотреть, «что с ним можно сделать». Тулупов увёз «эту кипу фельетонов к себе на дачу в Листвяново и стал внимательно прочитывать, затем подобрал в хронологическом порядке, кое-где сократил, кое-где связал, если это было нужно, чтобы придать цельность всему материалу».
Перед редактором стояла сложная задача — упорядочить громадный по объёму материал. Он разделил его на две части. В первой, озаглавленной «Каторга», объединены очерки, преимущественно описывающие природу Сахалина, устройство каторги, её быт, нравы. Во второй, названной «Преступники», сгруппированы очерки, посвященные отдельным каторжанам. Строго выдержать это разделение не удалось прежде всего по той причине, что необходимо было соблюсти и хронологическую канву повествования, которая определялась сахалинским маршрутом Дорошевича, начавшимся в Корсаковском порту. Поэтому в первой части присутствуют и очерки об отдельных каторжанах, а во второй — бытовые и нравоописательные.
«Книгу набрали и стали печатать, — вспоминает Тулупов. — Вышел объемистый том в 51 печатный лист, ценой три рубля за экземпляр. Печатание книги обошлось в 15 тысяч рублей, а с авторскими — в 21 тысячу рублей. Сытин кряхтел и охал. Каждый день призывал заведующего складом Силяева и спрашивал: „„Сахалин“ Дорошевича разослан по всем отделениям?“ — „По всем, Иван Дмитриевич“. — „Повторные требования были?“ — „Нет, повторных требований ниоткуда не было“. — „Сели с „Сахалином“, сели“. Так продолжалось недели три. Вдруг положение изменилось. Приезжаю я как-то в правление Товарищества у Ильинских ворот, меня встречает служащий в правлении Жигарев вопросом: „Читали сегодня газеты?“ Говорю: „Читал, в чём дело?“ — „„Сахалин“-то Дорошевича запретили продавать из железнодорожных киосков“. Что может быть глупее подобного распоряжения Главного управления по делам печати! В киоске книгу купить нельзя, а в любом книжном магазине можно. Прочитав это распоряжение, публика набросилась на книгу. В короткий срок первое издание было распродано. За первым изданием последовало второе, затем третье. О книге заговорили». На доходы от «Сахалина» Сытин построил новую типографию на Пятницкой улице в Москве (ныне 1-я Образцовая типография).
Дорошевич во время случайной встречи с редактором в Большом театре горячо благодарил за помощь. «Книга увидела свет только благодаря вам. Я сам не мог бы её выпустить, потому что не умею усидчиво и кропотливо работать <…> Написать фельетон или статью меня хватает, а вот сидеть и приводить в порядок чужой труд — слуга покорный, не могу» , — сказал он, пожимая Тулупову руку. Будучи «чистой воды» журналистом, он считал своё дело законченным уже на газетной полосе. Его звала и увлекала ежедневная встреча с читателем. Случай с «Сахалином» — тот редкий и счастливый, когда редактор-профессионал помог рождению знаменитой книги.
Главное тюремное управление не осталось равнодушным и к выходу книги Дорошевича «Сахалин». В его недрах был подготовлен проект специальной рецензии для журнала «Тюремный вестник». По сути это вполне оптимистический отчёт о состоянии дел на Сахалине. Соглашаясь с тем, что «наиболее тяжелое впечатление на читателя производят, без сомнения, те места книги г. Дорошевича, в которых он описывает наказания, коим подвергаются на острове преступники, и положение женщин и детей», ведомственный рецензент утверждает, что эти наблюдения «не соответствуют действительности». И тут же говорит о приостановке приговоров о телесных наказаниях ссыльных, а также о том, что в Государственный Совет должен быть представлен разработанный в Министерстве юстиции «законопроект об отмене тяжких телесных наказаний (плети и лозы), прикования к тележке и бритья половины головы».
Закономерен вопрос: а не сахалинские ли очерки Дорошевича в известной степени подтолкнули власти к приостановке исполнения ужасных приговоров и разработке этого законопроекта? И не под их ли воздействием губернатор Сахалина Ляпунов при вступлении в должность отменил, как сообщает тот же рецензент, «систему раздачи женщин в сожительство»?
Каторга была ликвидирована в 1906 году.
---
Источник: Букчин Семён Владимирович "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста"