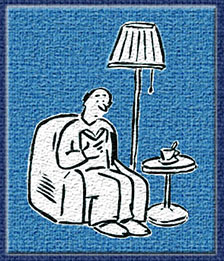Власий Михайлович Дорошевич ( 5 [17] января 1865 — 22 февраля 1922 ) — русский журналист, театральный критик и публицист, один из известных фельетонистов конца XIX - начала XX века.


Детство и юность
Мать и сын
«5 января 1865 года случилось происшествие, наделавшее мне после больших хлопот в жизни… В этот день я родился». В копии свидетельства о рождении, выданного Московской Духовной консисторией значится: «января пятого дня у дочери умершего гвардии полковника Александры Урвановой Денисьевой незаконно родился сын Власий…»
Семья Денисьевых принадлежала к старинному дворянскому роду, занесённому в конце XVIII века в 6-ю часть родословной книги дворян Рязанской губернии. К началу XIX столетия это уже было сильно обедневшее семейство, глава которого Дмитрий Денисьев имел шестерых детей, трёх сыновей и трёх дочерей. Сестры связали свою судьбу со Смольным институтом благородных девиц в Петербурге и осели в столице. Саша Денисьева с золотой медалью закончила учебу в Смольном, где пробыла целых девять лет…
После окончания учебы она была желанной гостьей и в московских, и в петербургских светских салонах. В это время у неё завязывается множество интереснейших знакомств в литературно-артистическом мире. Немудрено, что в ту пору у красивой и тонкой девушки было немало воздыхателей. Но настоящее увлечение к Александре Денисьевой пришло отнюдь не в виде «крупного лица». Напротив, её «предмет» был самого что ни на есть простого происхождения. К сожалению, об этом человеке известно очень мало. Звали его Сергей Соколов. По словам Гиляровского, он «принадлежал отчасти к журнальному миру и был живой портрет Дорошевича, один из представителей того мирка, которому впоследствии присвоили наименование „богема“». Родители Власа повенчались уже после его рождения. Если бы их брак был заключён вскоре после появления Власа на свет, в январе или феврале, во всяком случае до 19 марта, дня его крещения, то в метрической книге Николаевской церкви был бы, безусловно, записан и отец ребёнка, Сергей Соколов, но подобная запись отсутствует.
28 августа 1865 года Александра Денисьева, оставив на произвол судьбы незаконнорожденного ею ребёнка, которому в то время было от роду семь месяцев, скрылась по неизвестным причинам. Это один из наиболее непрояснённых моментов биографии Дорошевича. Что заставило его мать бросить ребёнка? Существует несколько версий, почему Александра Денисьева так поступила, в том числе и политическая, но точных сведений об этом нет.
В фельетоне «О незаконных и о законных, но несчастных детях» по сути рассказана история драмы юного Власа. Объявив, что он «будет говорить только о дурных матерях, потому что в этой области» его «специализировала жизнь» , «незнакомец» далее повествует: «35 лет тому назад женщина, которая меня родила, выздоровев от родов, уехала в другой город. Кормилица, которой, может быть, не было и заплачено, ушла к пожарным. И если бы судебный пристав, явившийся в это время для описи имущества по долгу, не выломал, на основании закона, дверей, 35 лет тому назад одним „усопшим младенцем имярек“ было бы больше…
Один из присутствовавших при описи в качестве свидетеля соседей взял брошенного маленького, обкричавшегося человечка и отнёс его к себе домой, к жене. Они были бездетны, им стало жаль ребёнка, и они почему-то полюбили его».
Спустя три месяца после своего бегства, в декабре, Соколова встречается с супругами Дорошевичами, даёт расписку, что отказывается от сына: «Я, нижеподписавшаяся, дочь подполковника Александра Урвановна Денисьева, дала сию расписку жене коллежского секретаря Наталье Александровне Дорошевич в том, что взятого ею на воспитание 13 сентября сего 1865 года незаконнорожденного сына моего Власия, имеющего 11 месяцев от рождения, отдаю ей навсегда, передавая ей при том на него все права матери, и обязуюсь никогда и ни в каком случае не требовать его к себе обратно, а также не входить ни в какие распоряжения относительно его воспитания, содержания и ничего до него касающегося и никогда не посещать его без её, г-жи Дорошевич, согласия. Расписку же сию, всю писанную моею рукою, обязуюсь никогда и ни в каком случае не опровергать, так как дана она мною обдуманно, в здравом рассудке и совершенно добровольно».
Только в 1879 году, когда Власу исполнилось 14 лет, чете Дорошевичей удалось официально его усыновить. «Я жил у своих „родителей“, не думая, что когда-нибудь мне придётся ставить это слово в кавычки, жил как родной сын, как приходится жить не всякому родному сыну. Мне не могло в голову прийти, что я не их сын… Меня звали фамилией моих родителей. Когда меня, маленького, в шутку называли по отчеству, всегда за моим именем произносили имя того, кого я звал „папой“».
Так получилось, что в конце 1880-х — начале 1890-х годов Влас и Александра Соколова работали в редакции московской газеты «Новости дня». Гиляровский припоминает об их отношениях этого периода: «А. И. Соколова — образованная вполне, литературная дама, в прошлом воспитанница Смольного института, много лет работала в разных изданиях, была в редакции всё.
Она была родная мать В. М. Дорошевича, но не признавала его за своего сына, а он её за свою мать, хотя в „Новостях дня“ некоторое время он служил корректором и давал кое-какие репортёрские заметки».
Горечь отравленного детства долго не оставляла Дорошевича, жгла душу. «Много намёков, и очень прозрачных, на все эти детские переживания рассыпано в его фельетонах о покинутых детях, — вспоминал Амфитеатров, — частая и сильно волновавшая его тема» . Униженное, оскорблённое, попросту несчастное детство — действительно красная линия в публицистике Дорошевича на стыке столетий. Вот только названия его фельетонов, опубликованных в это время, — «Что такое ребёнок», «Право отца», «Преступные подростки», «Детская проституция», «Брошенные дети». А ведь есть ещё фельетоны на ту же горькую тему не со столь говорящими заголовками. Конечно же, этот интерес к «детской теме», желание защитить «маленького человека» родились из собственного опыта. Не случайно первому тому своего собрания сочинений он даст название «Семья и школа».
По признанию современников, Дорошевич не любил вспоминать о мрачных сторонах своего детства и ранней юности. «Да и все мы, любя Власа, — вспоминал Амфитеатров, — старались не касаться этого больного места его биографии. Так что я, например, знаю здесь только то, что невольно вырвалось из уст его самого в такие минуты, когда душевная тяжесть воспоминаний почему-либо становилась ему особенно невтерпёж, и он обмолвливался двумя-тремя короткими резкостями, определявшими великий душевный гнев и муку неизлечимую» . Вообще эта часть его биографии была закрыта даже для друзей. Гиляровский признался: «…только много лет спустя Влас Михайлович сказал как-то мне, что его в детстве ещё усыновил московский пристав Дорошевич» .
За годы, прошедшие после отдачи сына чете Дорошевичей, Соколова сумела отвоевать себе место в литературно-газетном мире. Другого пути для неё не было: аристократическая среда отвергла, родня отвернулась, наследство давно распылилось. В общем, ей нужно было научиться зарабатывать на жизнь. Александра Соколова писала фельетоны в «Московских ведомостях» у редактора М.Н. Каткова, затем театральные рецензии в «Русских ведомостях». Пред приговором Соколовой дрожали артисты, а более трусливые из них старались всеми средствами заискать расположение у своего, хотя и не всегда беспристрастного, но очень грозного критика. В среде же купцов Замоскворечья, Таганки и Рогожской имя Соколовой производило такой же трепет, как слово „жупел“. В начале 70-х годов Соколова или, как её уже начинают звать, Соколиха, не только безжалостная театральная обозревательница, но и ядовитая фельетонистка, выступавшая на злобу дня под псевдонимом Анфиса Чубукова. С осени 1873 года она ведет фельетон в газете А. Краевского «Голос» и тогда же получает приглашение «на очень выгодных условиях в „Русский мир“, редактировавшийся и издававшийся в то время известным в военном мире генералом Черняевым. Она возглавила московское отделение «Русского мира». В августе 1875 года она перекупает у отставного надворного советника А. Ф. Федорова право издания газеты «Русский листок». Однако со средствами было туго, и в октябре 1876 она вынуждена была передать издание, тогда она осталась сотрудником редакции.
Она была удивительной труженицей, работала ежедневно, писала много и неутомимо, нередко совмещая сочинительство с хлопотливыми редакторскими обязанностями. В том же «Московском листке» в 1880-е годы шли с продолжением имевшие успех у читателя её романы «из жизни высшего общества» («На дне пропасти», «Чужое счастье», «Последний визит», «Современная драма»). Затем выходят один за другим её бытовые, криминальные, исторические романы и повести. Только в 1890 году у неё в Петербурге вышли пять книг: «Золотая пыль», «Без следа», «Бездна», «На смену былому», «Без воли». С начала 1900-х годов в творчестве Соколовой всё большее место занимает историческая тема. Она тщательно изучает исторические материалы времён Алексея Михайловича, Анны Иоанновны, Александра I и Николая I, плодами этих штудий стали её романы «Царское гаданье» (1909), «Царский каприз» (1911), «Тайна царскосельского дворца» (1911), «На всю жизнь» (1912), «Северный сфинкс» (1912), «Вещее слово» (1914).
В последние свои дни, превозмогая боль, она дописывала публиковавшийся в газете роман «Без руля и без ветрил». Последняя точка была поставлена в день смерти — 10 февраля 1914 года.
Когда она умерла, Влас написал некролог, который оценили современники, знавшие о драме его детства: «эти слова обличают большую и прекрасную душу Дорошевича» (Вашков), «любящая родная рука» (Глинский). Перед гробом матери он выжег из сердца давние обиды, в буквальном смысле слова преклонил колени.
«Москва её знала хорошо.
Когда-то зачитывалась её романами, за подписью „Синее Домино“, увлекательными, написанными красивым, чудесным языком. Театральный мир трепетал её рецензий, — она была тонким знатоком искусства. Её злободневные фельетоны, в особенности за подписью помещицы Анфисы Чубуковой, имели огромный успех.
У неё было блестящее остроумие и убийственный сарказм».
По его желанию на белом деревянном кресте над её могилой была сделана надпись: «Спи спокойно, моя родная».
Далось примирение не просто. Долгие годы в его душе шла борьба. Победило не только сыновнее, христианское чувство. Но и преклонение перед великой труженицей, какой всю жизнь была Александра Соколова, перед её несомненным талантом. И понимание, какой дар унаследовал он от матери.
Она умерла примирённой с сыном после почти сорока лет вражды.
Он переживет её всего на восемь лет.
Детство
Осенью 1872 года Власа приняли в гимназию. В фельетонистике Дорошевича средняя школа — тема особая, сопровождавшая его всю жизнь. Это одна из лучших по художественно-публицистической выразительности частей его наследия. Сколько горьких воспоминаний! Сколько ярчайших типов! Сколько одновременно и живописных и язвительнейших характеристик!
В общем, из всех московских гимназий самое хорошее воспоминание у него сохранилось только о первой. Потому что в ней, единственной, он не учился. И, следовательно, она была единственной, откуда его не исключали.
Но почему же его выгоняли поочередно из всех других московских гимназий? Сам он более чем откровенно рассказывает о своих школьных злоключениях. Из четвертой гимназии его выгнали за «контры с греком», учителем греческого языка, травившим слабых учеников и добивавшимся всеобщего угодничества. В третьей Влас в своём «подпартном» журнале «Муха» опубликовал фельетон «Лекок, или Тайны арифметики», высмеивавший учителя, буквально помешанного на выявлении, кто у кого списал. И, естественно, был с позором изгнан. Во второй гимназии он «позволил себе» сострить — сказал учителю латыни, чеху, коверкавшему русский язык (тот предлагал переводить из Цезаря — «третий легион попал в килючий и вилючий куст»), что не умеет говорить по-чешски. Ну и заработал, естественно, четырёхчасовую отсидку в карцере после занятий в течение нескольких дней. Три дня он выдержал. А на четвёртый впал в отчаяние.
«Я поймал трёх мух, вымазал им лапки чернилами и пустил по классу, изорвал „балловую книжку“, скатал шар из чёрного хлеба и запустил им в доску среди урока и, встретив в коридоре учителя немецкого языка, лаял на него собакой». Выгнали и из второй гимназии, правда из снисхождения к плохому здоровью матушки позволив оформить как уход по собственному желанию.
Когда в очередной гимназии Влас в сочинении на тему «Терпенье и труд всё перетрут» «среди академических рассуждений» вставил: «Например, здоровье», разразился новый скандал. В результате он получил «нуль за сочинение», хотя нулей вообще не ставили, да ещё отсидку в карцере и сниженный балл по поведению. Опять пришлось стоять с опущенной головой перед инспектором и слышать это на всю жизнь врезавшееся в память казённое обращение:
«Дорошевич Власий, вы позволили себе неуместную и неприличную шутку…» .
«„Дорошевич Власий“, „Иванов Павел“, „Смирнов Василий“…
Это до сих пор, при одном воспоминании, бьёт меня по нервам.
Словно на суде!
И мне кажется, что нас не учили, а беспрерывно, из года в год, изо дня в день — судили, судили, судили…»
Свершив своеобразный круг по московским гимназиям, он вынужден был после пятого класса расстаться с надеждой получить аттестат классической гимназии и поступил в имевшее коммерческий уклон частное реальное училище И. М. Хайновского. Порядки в нём были весьма либеральные, можно было не являться на уроки и вообще не налегать на учебу. Главное, чтобы вовремя вносилась довольно высокая плата за обучение. Но и здесь, по свидетельству Амфитеатрова, «Власа угораздило отличиться каким-то похождением во вкусе Боккачиева „Декамерона“, которого даже всевыносящий Хайновский не вынес». Что там произошло, каким «похождением» отличился Влас, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но на этом история, скажем так, «официальной учебы» Дорошевича заканчивается.
Юность
Но суть в том, что не закончивший гимназического курса и потому не имевший возможности учиться в университете Дорошевич сумел стать образованнейшим человеком своего времени. И здесь прежде всего проявилась его неукротимая тяга к знаниям и сила воли.
Он самостоятельно выучил латинский язык, чтобы читать в подлиннике любимых римских сатириков Ювенала и Марциала. С юных лет Влас много занимается иностранными языками. Изучению немецкого содействовало то обстоятельство, что он был завсегдатаем театра Парадиза, где выступали великолепные немецкие актёры — Поссарт, Барнай, Росси. В 20 лет он свободно читал в подлиннике и цитировал Гёте и Гейне. Итальянский ему помогло освоить общение с артистами итальянской труппы Одесской оперы. Он прекрасно изъяснялся на французском и с годами собрал у себя весьма изысканную библиотеку французских изданий. К тридцати годам овладел английским. Позже — испанским. Эта языковая свобода открыла перед ним мир во время постоянных и долгих заграничных путешествий.
Колоссальным духовным ориентиром для Дорошевича смолоду стала русская литература. Он с ранних детских лет был неустанным читателем Тургенева, Достоевского, Островского, Гончарова, Щедрина, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова. Для него было важнейшим то обстоятельство, что русская литература всегда была «защитницей, предстательницей и ходатайницей» за униженных и оскорбленных. Но не менее важным было и то, как написано произведение, то есть само искусство слова, чаровавшее и завлекавшее его смолоду, заставившее искать своих путей в журналистике. Особенным было увлечение Гоголем, из которого он знал наизусть целые страницы.
В гимназические годы тогдашние либеральные веяния в сильнейшей степени переплетаются для него и многих его сверстников именно с театром. Со сцены можно сказать так много! Бросить открытый вызов несправедливости, как это сделал любимейший герой Уриель Акоста! Влас был не единственным гимназистом, буквально бредившим театральными подмостками. Дело дошло до того, что однажды он объявил матери, что готов оставить гимназию для того, чтобы «поступить на сцену».
Это решение созрело после получения некоторого сценического опыта в небольших любительских театрах. Всё здесь было настоящим: сцена, зал, гримерки, касса. Но играли — и самозабвенно! — любители, гимназисты, мелкие чиновники, начинающие актёры.
Но желание стать актёром было поистине неодолимым. Влас был долговязый, нескладный и лицом далеко не красавец. Хотя актёрские данные имел несомненные и, если верить Амфитеатрову, «был хорошим актёром» больше комического плана, что нашло выражение в постоянных пародиях и мистификациях, розыгрышах, которыми он удивлял своих друзей в юности. И ещё он был изумительный рассказчик. Сравнивая его в этом плане с Горьким, которому «одинаково удаётся и трагическое и комическое», Амфитеатров подчеркивал, что «вся сила Власа была именно в неподражаемом естественном комизме. Драму он аффектировал, как всякий истинный комик, когда берётся за трагическую роль» .
Когда Власу миновало 15 лет, в результате болезни умирает его приёмная мама (отец, Михаил Родионович, умер ещё раньше), и Влас остаётся один. Во всяком случае, у него не раз встречаются обмолвки о том, что самостоятельную жизнь он начал на шестнадцатом году жизни. В фельетоне «Перед смертью», в котором он назвал точную дату своего рождения, говорится: «Так дело шло до шестнадцати лет…
В этом нежном возрасте благосклонная судьба, легким шлепком вытолкнувши меня из-под родительского крова, сказала: „Живи!“
И я начал жить…»
Вообще же этот период начала самостоятельной жизни и почти до конца 80-х годов беден в его биографии прежде всего точными фактами. Хотя есть отрывочные мемуарные свидетельства и всё те же автобиографические обмолвки в фельетонах. «Послегимназический период жизни Дорошевича, — вспоминал Амфитеатров, — ознаменовался полным одиночеством юноши и почти что бесприютною нищетою». Каких только занятий он ни перепробовал, чем только ни занимался, чтобы выжить! Мелкий литературный заработок перемежался с тяжёлым трудом землекопа, грузчика, со случайными, грошовыми выступлениями в любительских и профессиональных театральных труппах, с репетиторством. Одно время, будучи шестнадцати лет от роду, даже служил писцом в полицейском участке.
Впрочем, он никогда не жаловался на тяжкую, голодную и бесприютную юность. И то автобиографическое признание, которое будет процитировано ниже, также не жалоба, оно вырвалось в ответ на появившуюся в печати клевету, обвинявшую его в финансовых махинациях. Якобы он, уже зрелый журналист, «учитывал в банках векселя», а когда ему в учёте отказывали, «принуждал к этому, показывая гранки с какими-то разоблачениями». Возмущенный до глубины души, Дорошевич писал в «Ответе на клевету»:
«Единственная „финансовая операция“, к которой я прибегал, — это если у меня не было денег, — я закладывал лишнее платье <…>
Я всегда был далёк от биржевого и банковского мира <…>
Не литераторское это дело.
А я всю жизнь был чистым литератором…
Я ночевал в декабре на бульваре и ходил греться к заутрени в Чудов монастырь, не ел по три дня, и меня подбирали в обмороке от голода на улице, я занимался физическим трудом, нанимался в землекопы, когда в редакциях, где я работал в юности, мне не платили».
Это воспоминания о горькой юности уже знаменитого публициста. Но и в молодые годы, когда он чуть-чуть «приподнялся», призрак нищеты буквально преследовал его: «Результатом моей жизни было то, что я даже не могу представить себе другой кассы, кроме ссудной, другого билета, кроме билета на заложенный сюртук…
Я голодал большую часть свободного времени, и едва запасался обедом на более или менее продолжительный срок, как меня „выселяли“ за неплатёж с квартиры <…> Едва достигал возможности приобрести в своё распоряжение прескверный номеришко, как снова на целый месяц лишался обеда…» («После смерти»).
Нищета толкала к скорейшему заработку — сочинению «чтива», над которым он сам смеялся. И эта же самоирония отталкивала его от этого занятия. Но нужно было жить. Поэтому приходилось совмещать — сочинять «чтиво» и одновременно острить по его поводу. Он пародирует фельетонные романы и сам же публикует в «Развлечении» в 1888 году «исторический роман» «Черное горе в стенах белокаменной», запечатлевший приключения юных Вани и Груши в захваченной французами Москве. Несомненно «отталкивание» от романа М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году».
Он видел, как «в тине и вони „мелкой“ печати» задыхались и гибли многие талантливые товарищи его юности, такие как В. А. Прохоров, писавший «под псевдонимом „Риваль“ бульварные романы в маленьких газетах» . «Панихидой» по нему уже тридцатидвухлетний Дорошевич назовёт свои «проклятия безграмотным издателям» , на которых за гроши вынужден был «горбатить» этот «человек, полный ума, остроумия, жизни, наблюдательности, таланта и благородства мысли» . Однажды ему повезло, и он, «литературный плебей», «заставил обратить на себя внимание не связями, не дружбой с лучшими людьми, не протекций, а талантом» — его напечатали в толстом «Вестнике Европы», и эта «большая вещь вызвала похвалы критики».
«Но… но… но… чтобы писать, надо было жить. Жить самому, жить близким. А жить — это значило писать фельетонные романы в маленькой газете.
Писать сегодня, чтобы было что есть завтра.
А за фельетонные романы платили полторы копейки за строку <…>
А писать по полторы копейки за строку — значит писать до одурения.
Когда уж тут думать о „большой“ работе.
Тут нельзя:
Написал „им“ роман! Отписался и принялся за „свою“ работу.
Всю жизнь работай на „них“.
И он остался задыхаться в этой „злой яме“, сдавленный нуждой, прикованный заботой о завтрашнем дне, обречённый на литературную смерть этими „полутора копейками за строку“, — и задохся, спился, умер от алкоголизма где-то в приёмном покое.
Он, как на Бога молившийся на литературу, он, так её любивший».
Прохоров-Риваль умер в сентябре 1897 года. Дорошевич работал тогда в «Одесском листке» и посвятил памяти друга юности некролог, в котором отметил: «Его имя было хорошо известно Москве и публике многих провинциальных городов. Он писал или небольшие рассказцы, или так называемые „бульварные“ уголовные романы, всегда интересные, увлекательные по фабуле.
И только. Но местами, там и сям, в этих „бульварных“ романах сверкали такие блестки сильного, настоящего таланта, так много наблюдательности, такие тонкие психологические черты…»
Судьба Риваля долгие годы стояла перед ним как напоминание о вполне возможном завершении собственной жизни. Если бы он не проявил волю, если бы остался сочинителем «фельетонных романов» по полторы копейки за строку. Впрочем, только ли в воле дело? Вероятно, какое-то внутреннее чутье подсказывало ему, что, не гнушаясь временными заработками у «Никольских» издателей, он должен идти своим путём именно в журналистике, которая тогда была в сильной степени частью литературы и вместе с тем, в условиях убыстряющегося экономического развития, уже приобретала специфические черты, скажем так, «ежедневной литературы», обращённой прежде всего к массовому читателю. Да, он должен сделаться писателем! Но каким писателем? Почтенным автором солидных толстых журналов? Но как туда пробиться? А, главное, стоит ли, если он чувствует в себе дар иного рода — быть резонатором, комментатором новостей?
В одной из юморесок в «Будильнике» он прямо заявит об этом: «Но я хотел новостей, я хотел непременно знать, где именно обнаружена растрата в банке, на какой дороге сошёл с рельсов поезд, кого из редакторов посадили за диффамацию и какие, наконец, успехи сделал прогресс».
Интерес к самой жизни в её разнообразнейших проявлениях, на которые хотелось откликаться и непременно в той тяготеющей к юмору, к иронии манере, которая — он на некоем генетическом уровне ощущал это с юных лет — была ему наиболее близка. Не случайна его оговорка в одном из сатирических обозрений в «Будильнике»: «Истинного таланта не скроешь. Кто одарён „комической жилкой“, у того она нет-нет да и „забьёт вовсю“, сколько он ни старайся серьёзничать».
Иронический тон, вспоминает Амфитеатров, вообще был присущ молодым литературным компаниям в 80-е годы. Он считает его своеобразной защитной реакцией поколения, «сильно ушибленного реакционною школою гр. Д. А. Толстого, разочарованного политически и ударившегося с горя в скептический цинизм…» Шутки, розыгрыши, мистификации, пародии были основой отношений, царивших среди юной богемы, жившей в меблированных комнатах Фальц-Фейна, этого своего рода «Двора чудес», находившегося на Тверской улице в Москве. Влас был душой этой компании начинавших поэтов и беллетристов, художников и консерваторских учеников. На пятнадцать человек было три пальто и тринадцать штанов. Эти «гении без портфеля и звезды, чающие возгореться», голодали, но презирали буржуазию и бюрократию, мечтали перестроить мир, много читали и спорили сутками напролёт.
В этот период с ним встречается известный прозаик И. И. Ясинский, оставивший не только портрет юного Власа, но и свидетельство о его первом романе: «Дорошевич жил в меблированной комнате, ещё худенький, длинноносый молодой человек, прославившийся уже своими остроумными фельетонами. Дорошевич был сыном московской бульварной романистки Соколовой. По-видимому, он не получил никакого воспитания, и история великих людей застаёт его уже в шестнадцать лет писцом в полицейском участке. Раннее столкновение с жизнью в её уличных и полицейских отображениях кладёт свою печать на душу будущего писателя. Он весел, игрив, за словом в карман не лезет, если нужно, скажет дерзость, а не то многозначительно промолчит, что иногда бывает красноречивее слов.
Отсюда у него вырабатывается стиль, состоящий из коротеньких в одну или полстрочку фразок, нередко колючих, как иголки. События дня и даже минуты для него имеют прелесть и занимательность только до событий следующего дня. Есть существа в природе, которые живут только, пока заходит солнце. Но ничто не сравнится с жизнерадостностью их танца в сиянии умирающего дня…»
А у Власа в ту пору идёт завоевание своего места в московских юмористических журналах, в бульварных газетах. Его «комическая жилка» буквально рвётся на страницы периодики. Писал в юности он так обильно и в таком множестве изданий, что впоследствии и сам путался насчёт точной даты начала своего пути в журналистике; да ещё и анонимно, и под разными псевдонимами, из которых далеко не все установлены словарем Масанова…
---
Источник: Букчин Семён Владимирович "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста"